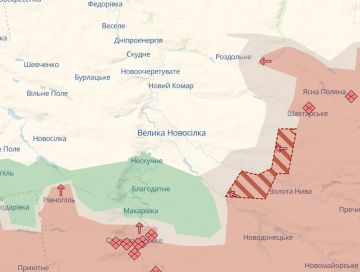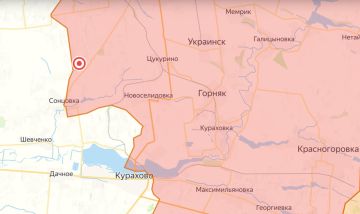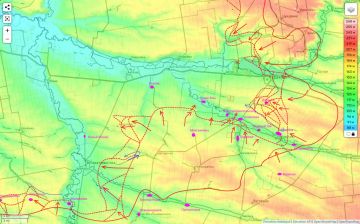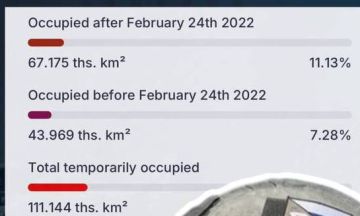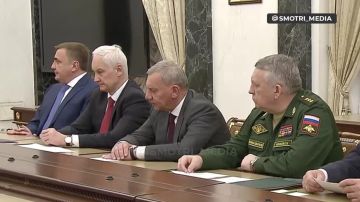Рассказ из книги Марата Хайруллина «И чистою слезою омыться»
Поклонись этому полю, человек…
Знаете, какие на Донбассе осени - долгие, ласковые. Смотришь на притихшие, подмороженные, заждавшиеся хозяина, несеянные поля и замордованные обстрелами деревья, взмоленные в бесконечное ясное небо переломанными ветвями, и не можешь оторваться от этой печальной красоты.
По овражкам туманятся по утрам ставки, и так хорошо, Господи, что не забудешь уже вовек такую осень, если хоть раз переспишь с ней…
Мы Горемыкой мыкались по этому провонявшему порохом октябрю 22-го от звонка до звонка.
Я еще служил – нас, не молодняк, поставили парой в наряд на Десятку. До Десятки от Бункера, наверное, было километра два вдоль нейтрального поля. Горемыка был пониже меня, но кряжистее, весь в жилах. Он брал мешок с хлебом, водой и консервой на плечи, я ведра с горячим харчем. И мы рысили по маршруту, где за посадкой, а где и в поле зрения укропов.
Место для передыха было только одно - развалины цеха ровно посередине пути. Горемыка по обычаю курил на привале, но задыхался почему-то всегда я. Он никогда не убегал вперед, всегда держался рядом. Особенно фигово было метров за двести перед Десяткой - у хохлов еще были разъездные минометки, а дорожка здесь как раз взбиралась на лысый пригорок, и укры из спортивного интереса нет-нет, да пытались нас подбить. Жирно тогда сволочи жили, не жалели на двух кухонных бойцов польские шелестлявые «падлы».
Страшно мне было той осенью на этой службе до усрачки, никогда я так не боялся в жизни.
Да еще с Горемыкой мы сразу не сошлись характерами, цеплялись постоянно друг к другу.
В первую неделю нас поставили нужник рыть на Десятке, копатель из меня был еще хуже несуна.
-Тоже мне, барсетка, с генералами он дружит, говнослив вилкой ковыряет, - в течение всей копательной операции ворчал Горемыка, да так громко, что все в блиндаже слышали это. Лихому командиру Горцу даже приходилось выходить к нам и осаживать:
-Хватит сраться, укропы в пятистах метрах сидят, достали уже воины…
Вокруг позиции такой травостой густой стоял, что и не поймешь, с какой стороны укропы могут полезть. А наши вопли мешали секретке слушать врага.
Что интересно, у Горемыки все было так - через особый смысл, наизнанку как-то. И позывной не как у всех придумал, и ругался не матом, а вот такими петельками.
На обратном пути мы всегда делали большой привал в развалинах, чтобы выдохнуть свой страх, потому что остаток дороги был легче.
В первый же день похода по заданному маршруту к нам вышла трехлапая кошка, которую Горемыка тут же окрестил Бурыгой.
Мы тявкались с ним всю первую неделю, пока нас не накрыло по полной на выходе теми самыми блядскими «польками». На самой лысинке подстерегли, и не выберешь, куда бежать - назад или вперед. Я задохнулся в полный хрип, Горемыка толкал меня сильно в спину и ругался:
-Да что ж ты за человек такой, шевели копытами - растетюха очкастая - и где он только слова такие брал.
После этого мы в полный резонанс с ним забухали: добирались до развалин, раскладывали закуску и пили втроем с Бурыгой – безлапая кошка, наевшись, засыпала. Иногда приходили со своими ребятами и присоединялись к нам Горец и Султан.
Развалины были граничной точкой между позициями Одиннадцатого полка и «Пятнашки», а тогда всем на передовой жестко вколачивали пользу взаимодействия между соседями, и Горец с Султаном в развалинах сговаривались о ночных вылазках к укропам.
С Султанчиком я еще с 14-года шибко дружил, и всегда был рад его видеть - такого большого, похожего в своей бандане на доброго пирата.
Нас они не трогали: фронт сидел в обороне, бойцов хватало, армия РФ со своей дисциплиной еще только заходила в ДНР, да и в целом на добровольцев смотрели сквозь пальцы - не сбежали и Слава Богу.
Мы с Горемыкой уже несколько недель подряд никак не могли наговориться. Страх не то, чтобы ушел, но мы теперь жили, кажется, вот ради этих разговоров – в жизни как будто появился смысл.
Мы дотаскивали солдатский харч, работали работу, если она была на Десятке, и спешили в развалины, где ждала нас Бурыга.