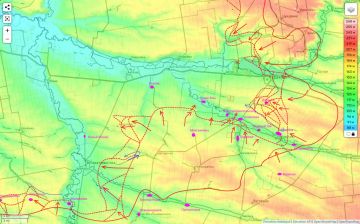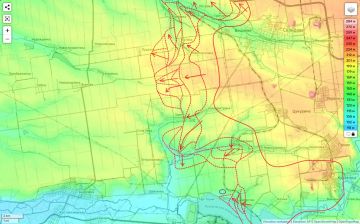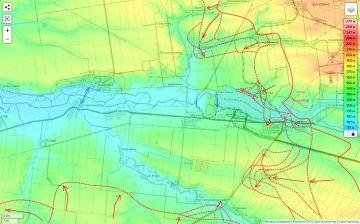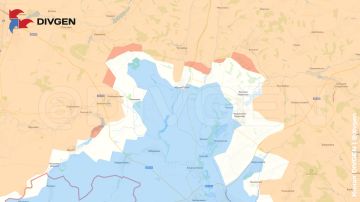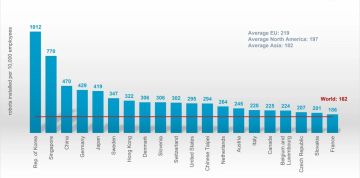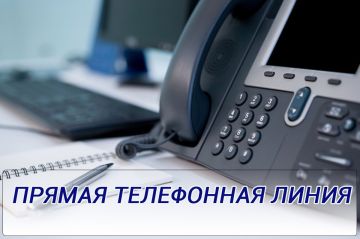Друзья, в эти дни реже буду писать – вернулась в часть, где не была восемь месяцев, и до сих пор перевариваю изменения, а они такие, что я как раньше больше не могу просто сесть и всё на порыве написать. Теперь мне надо обдумать – что писать и как. Слава Богу, почти все живы, наверное, потому, что здесь больше минометчиков и операторов БПЛА, чем штурмовиков. Ну, командир Николай получил ранение. Вы его помните, он однажды давал интервью мне и разбил лицо зэку, который пытался ночью выйти из части, чтобы напиться. Точно должны помнить – это он в ноябре 22-го говорил мне, сидя рядом с мобилизованными: «Война – это тоже жизнь, просто такая. И если мы не научим их жить этой жизнью и быть охотниками, а не жертвами, они будут убиты».
Ранение Николай получил эпическое. Он поехал с базы в войну выбирать место для минометных расчетов. За рулем сидел водитель Аркаша, рядом Николай, и они ехали в черный гриб войны, который поднимался по дороге высоко над деревьями. Николай как раз разглядывал гриб, думая, что немножко не по той дороге поехали, когда резко прилетел дрон и сбросил заряд. Николай потерял сознание, очнулся – машина едет, одна половина разорванного Аркаши лежит на нем, а собственные лицо и руки побиты осколками, стекла вынесены. Он подвинул Аркашу, взял руль, развернулся и поехал в Донецк. В город он въезжал эпически – на скорости с черным лицом, окровавленный, из разбитого окна торчал кусок Аркаши. И сейчас Николай говорит мне – «Почему вы расстроены тем, что они стали такими? Это – работа. Это уже – работа. Теперь они – охотники. Мы уничтожаем врага».
Теперь наши разговоры происходят в подвале, между мной и собеседником лежат две Бабы Яги, и пока я говорю, кручу стопой их лопасти. Это трофейные дроны. Никто из бойцов не хочет говорить, сколько он убил. «Сто, - допытываюсь я. – Двести? Что, триста?». Какая разница? Это – работа. Наш солдат стал таким, каким только и можно существовать в этом пространстве – в войне. Он стал охотником. Безжалостным порой. И до этого «порой» я докапываюсь, трогая лопасти Бабы Яги, чтобы понять – осталось ли место милосердию. Пусть даже к врагу, но все равно. Это ведь я сама так жалела этих мобилизованных два года назад, и они сидя тут, в этой же бетонной комнатке, говорили мне, что они не смогут убить человека, что это – человек, что украинский боец – брат, такой же, русский. И в это время поднаторевшие в убийствах с 14-го бойцы ВСУ безжалостно убивали их. А пока я спрашиваю – «А вы их уже ненавидите раз так безжалостны?». Этот вопрос вообще непонятен бойцам – при чем тут может быть ненависть, если это – просто работа. Работа и все. Если на той стороне солдат без садизма и удовольствия тоже делает свою работу, то за что же его ненавидеть? Просто он – враг, и должен быть уничтожен, иначе будешь уничтожен ты.
– А русскими? Русскими вы их считаете? – спрашиваю я, и Николай мне рассказывает – уже нет, но некоторые из них – русские. Он говорит, что русский сразу узнается по душе нараспашку. Например, солдат выбирает пожертвовать собой ради товарищей. «Да это же свой, русский!» – говорят бойцы на нашей стороне друг другу. Он строчит из пулемета до последнего, прикрывая отступление ВСУ, зная, что шансов нет, а наши смотрят на него, восхищаются им, чувствуют родство, потому что только русский может жить с такой распахнутой душой, и готовят для него сброс или мину. Безжалостно посылая в него смерть, они вслух или про себя проклинают третьи силы.
И, кстати, про того зэка – он на месте, взялся за ум.